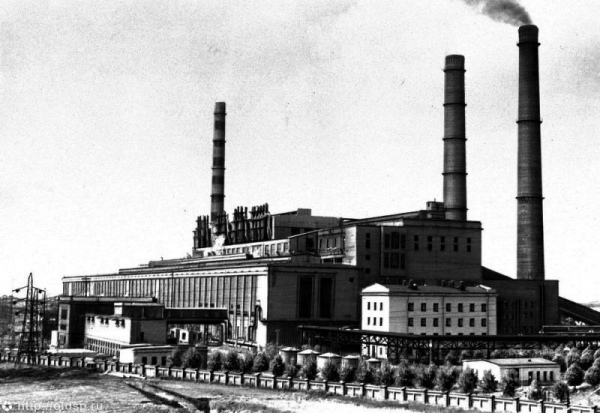|
||
Немка |
Она была немкой. Хотя папа был русским. И мама – русской. Но папа работал инженером и два раза ездил в Германию – в командировки, а мама работала учителем немецкого языка. Мама преподавала в школе. Помимо языка она вела ещё географию. А когда директор школы по своим депутатским делам уходил в горком или уезжал в областной центр, мама становилась и учителем истории. Маму на работе не любили. Ученики. Потому что близилась война. Все чувствовали или знали: будет. И обязательно с Германией. И в каждом, кто хоть как-то был связан с немцами, а уж тем более знал немецкий язык, подозревали шпиона. Папу один раз арестовывали, но быстро отпустили, потому что без него на заводе остановилась важная работа. Маму не арестовывали – просто к ней на уроки несколько раз приходили какие-то люди. Люди были очень серьёзными и неразговорчивыми – их боялся даже директор школы. Мама – не боялась. Она говорила, что делая свою работу, она исполняет свой долг. Приходить к маме на работу серьёзные люди перестали после одного случая. В её шестом «а» был мальчишка – Вилька. Вообще-то его звали Виленом – в честь Владимира Ильича Ленина, но ребята переделали Вилена в Вильку. На уроке немецкого Вилька встал в позу. Причём, буквально – тоже. Он взобрался на сиденье парты и, не обращая внимания на чужака в классе, заявил. На весь класс: – Я, как советский гражданин, отказываюсь учить немецкий язык! И считаю, что весь класс должен высказать своё отрицание Марусе! Немцы задушили революцию в Испании, оккупировали Чехословакию, подчинили себе итальянцев и другие свободолюбивые народы. Нет немцам! Нет фашистам! Нет фашистскому языку! Нет Марусе! Но пасаран! – потрясая кулаком, Вилька начал делить слова на слоги, отбивая такт правой ногой – крепким кожаным башмаком – подошвой: – Но-па-са-ран! Но-па-са-ран! Класс моментально, кроме неё, дочери своей мамы – по школьному прозвищу Маруси – полез, как на баррикады, на парты: – Но-па-са-ран! Мама подняла руку в том же антифашистском жесте, и класс, подчиняясь всё-таки учителю, смолк. И этого хватило. – Силой оружия можно уничтожить любой народ, любую страну, – сказал мама. – Но подчинить себе государство, нацию, заставить изменить фашистские взгляды на коммунистические, человеческие, можно лишь зная язык народа и его историю. Чужак, что в тот момент находился в классе, поднялся со своего места на «камчатке», прошёл, протискиваясь сквозь ребячью толпу, к Вильке и сказал – так, что все моментально сели: – Учи язык, «но пасаран», – и добавил, уже покидая кабинет: – И ещё. Вашу учительницу зовут не Маруся, а Мария Петровна. Больше на уроки мамы никто из посторонних не приходил. И ребята притихли. А летом началась война. Налетели самолёты с крестами на крыльях, на город упали бомбы… Потом в город вошли танки, машины и сами фашисты. Они вошли очень быстро – их не ждали так скоро.
Когда на улице заревели двигатели и раздалась стрельба, мама кинулась к окну и рухнула, оседая, на пол: – Всё! Не успели… В их квартиру долго никто не заходил. Мама порывалась бежать – к отцу на завод, но всякий раз застывала на пороге: – Что я делаю? У нас дочь… Ближе к полуночи в дверь поскреблись. Именно так – не постучались, а поскреблись – тихо-тихо, как кошка, которой у них не было. Мама сорвалась – полетела от окна, у которого провела почти весь день: пряталась за занавеской, краем глаза выглядывая, что там, на улице – и вот сорвалась: – Кто там? – Маша, это я… – донеслось из-за двери. Тётя Лена, муж которой работал на том же заводе, что и её отец, с трудом перешагнула порог – казалось, она постарела сразу на полтора десятка лет и теперь в свои тридцать с небольшим выглядела на пятьдесят. – Что? – Убили… наших… – тётя Лена недоговорила, но и без того всё было ясно – всё сразу стало ясно. Мама больше ничего не говорила – не спрашивала, не узнавала. Она просто шагнула в ночь, и всё. На другой день, утром, она узнала, что случилось на заводе и с мамой. Отец с товарищами, с рабочими, подорвал себя и цех, который наши сапёры успели – в самый последний момент – заминировать, подорвал вместе с вошедшими на завод фашистами. У мамы был нож. Обыкновенный кухонный нож, которым режут хлеб. Этим ножом мама зарезала первого же встретившегося ей фашиста. Её застрелили. Другие фашисты. Утром всех жильцов дома выгнали на улицу. Фашисты. Всех: стариков, женщин, детей. Двери выламывали и, крича и молотя куда придётся прикладами винтовок, гнали – ставили возле стены. Через улицу, у другого дома, стояли три бронемашины – пулемёты с них смотрели на неё, на соседей, на… Вильку, непонятно как, ведь жил совсем в другом месте, оказавшемся здесь. Именно здесь. Именно здесь она поняла: сейчас её жизнь закончится – насовсем, навсегда. А за что? И с её губ сорвалось: – За что? Она могла произнести эти слова по-русски, но произнесла – по-немецки. Ведь расстреливать её, её соседей, её одноклассника собирались немцы. У бронемашин стояло несколько офицеров и одна женщина. Она тоже была в форме. В фашистской форме. Женщина услышала два немецких слова – «За что?» – и, сказав что-то офицерам, подошла к ней. И спросила: – Ты кто? Вилька стоял рядом. И она не успела ответить. Ответил одноклассник. За неё. Процедил сквозь зубы – с ненавистью: – Н-немка! Настоящая немка оглядела её с ног до головы и схватила за руку: – Пойдём! – Куда? – не поняла она. Немка рассмеялась – белые зубы ослепили, от веснушек на лице сыпануло огоньками, рыжие волосы, попав под солнечные лучи, обдали пламенем. – Нечего делать рядом с трупами, – сказала немка. Потом она, эта женщина, говорила ещё – офицерам, и те согласились: раз девочка – немка, её стоит пожалеть, ведь не виновата же она, что родилась в России. А потом она смотрела, как падают люди – те, кого она знала. И Вилька – тоже. Его белая рубашка вдруг вздулась – в нескольких местах, ткань лопнула, а затем белое стало красным. И Вилька упал. Упал, как все, кого она знала. – Смотри, – говорила ей фашистка. – Так мы, немцы, поступаем с теми, кто недостоин даже обслуживать нас. Это не люди, это скот, родившийся по нелепой божьей прихоти. Но Бог велел нам, людям, повелевать скотом. И мы, люди великой немецкой нации пришли сюда, чтобы исполнить божью заповедь. Госпожа Элиза была очень набожной немкой. Она молилась по утрам, перед каждым приёмом пищи и отходя ко сну. – Я буду называть тебя Гретхен, – сказала ей госпожа Элиза; про её настоящее имя госпожа Элиза не спросила. Она вообще ни о чём не спрашивала. Она говорила, и всё. – Тебе не повезло родиться, ты родилась в этой варварской стране, но тебе повезёт жить – ты будешь жить в Германии. Ты будешь служить мне. Точнее, моей дочери. Если бы была настоящей немкой, я бы платила тебе за твою работу. Но ты не совсем немка, поэтому ты будешь носить ту одежду, которую тебе дадут, есть ту пищу, которую ты заслужишь. А ещё ей запретили выходить на улицу. Даже во двор особняка госпожи Элизы. В Германии Гретхен оказалась спустя полмесяца… Госпоже Элизе дали отпуск, и она увезла с собой Гретхен. В Германию. К себе. К своей дочери. Мужа у госпожи Эизы не было. – Он погиб в Польше, – сказала она Гретхен, показав фотографию в чёрной рамке, стоящей на прикроватном столике. Своём столике. Своей кровати. В своей спальне. – Он погиб нелепо. Эти ублюдки, поляки, решили, что могут сопротивляться и стали стрелять. Муж был во главе своего полка – пуля попала ему в голову. Нелепая смерть, но – без мучений. Хотела бы я покинуть сей мир без мучений, – вздохнула госпожа Элиза и перекрестилась. Госпожа Элиза была эсэсовкой. – СС – элита Германии. Мы – те, кто в любой час дня и ночи готов отдать жизнь за нашего фюрера! Фюрер говорит – мы делаем! Госпожа Элиза делала то, что говорил фюрер: она воевала с Россией, уничтожая всё советское, что могло уничтожить её самою. Дочь госпожи Элизы – маленькая Мари – была слишком маленькой, чтобы понимать мать. Мари было три с половиной года. Когда госпожа Элиза вновь отбыла на войну, Мари взяла Гретхен за руку, прижалась к ней щекой и сказала: – Ты – моя мама. – Хорошо, – согласилась она. Она кормила Мари с ложечки, когда та капризничала, давала лекарства, когда маленькая болела, просиживала с нежданной дочкой, когда на улице была гроза, и дочка боялась… Мари не нравилось, что мама Гретхен не может ходить с ней на прогулки, но Гретхен ничего не могла поделать – никто в доме госпожи Элизы не мог ослушаться госпожи Элизы: ни управляющий её имением, которое находилось неподалёку от городка, ни его помощник, ни повар, ни горничная, в обязанности которой входило убираться во всём доме… В обязанности Гретхен входило одно. Быть с Мари, когда та была в доме. Впрочем, была ещё одна обязанность. Она появилась чуть позже. Каждые полгода госпожа Элиза прибывала с фронта домой. В отпуск. С фронта. Хотя… На каком фронте она была?! В первый же свой приезд, когда Гретхен уже освоилась в чужом доме, госпожа Элиза избила… свою собственную дочь: – У тебя одна мать – я! Гретхен дрожала, стоя рядом с Мари, боясь, что достанется и ей, но больше страшась того, что, если она заступится за Мари, Мари изобьют сильнее. – Молодец! – похвалила госпожа Элиза. – Жизнь в Германии идёт тебе на пользу. Ты становишься настоящей немкой. Эмоции нужны только для гнева. Для любви, нежности они не нужны. Должен быть расчёт. Холодный и трезвый, даже если ты собираешься выпить спиртное, расчёт – ведь для чего-то ты это делаешь, а не просто так! Пойдём… В спальне госпожи Элизы было темно: шторы задёрнуты, свет не включали. Госпожа Элиза зажгла ночник и провела холеным пальчиком по стеклу рамки, за которой пряталась фотография её покойного мужа – и довольно улыбнулась: горничная хорошо исполняла свой долг – пыли на стекле не было. Пыли не было и на прикроватном столике, и пол был чист, и картины в тяжёлых рамах, украшавшие стены спальни, не требовали дополнительного ухода. За портретом какого-то рыцаря – из шлема, нашлёпнутого на доспехи, наружу высовывался только нос да сердито поблёскивали – оттуда же – маленькие колючие глазки, за этим портретом у госпожи Элизы скрывался сейф. – Запоминай код, – сказала госпожа Элиза Гретхен. – Ты будешь открывать сейф раз в месяц. Золото и камни не любят, когда их забывают. Ты должна будешь обтирать их и… Можешь любоваться ими и даже примерять. И, да! – госпожа Элиза вдруг расхохоталась. – Не думай, что я настолько тебе доверяю! Да, мой управляющий каждую неделю письмом отправляет мне отчёты и пишет, в том числе, о тебе. Ты ведёшь себя изумительно – ты не позволяешь себе взять даже кусок хлеба, когда приходишь на кухню. Это правильно. Но это не значит, что я тебе доверяю. Это всего лишь расчёт. Горничной я не могу доверить своё богатство. Несмотря на то, что в этом доме она работает много лет, она может украсть драгоценности и скрыться. Ты тоже можешь украсть моё золото, но скрыться с ним тебе не удастся: ты не знаешь, куда идти, у тебя нет здесь знакомых. И ты никого не подкупишь – у тебя, ещё ребёнка, просто заберут золото. Всё. С тех пор ежемесячно Гретхен заходила в спальню госпожи Элизы, закрывалась в комнате – изнутри – и открывала сейф. Кольца, перстни, серьги, цепочки, кулоны, подвески, броши – золотые, серебряные – с бриллиантами и незнакомыми Гретхен камнями – они пугали. Пугали, потому что не были настоящей собственностью госпожи Элизы. Каждые полгода коллекция драгоценностей госпожи Элизы пополнялась новыми украшениями. Госпожа Элиза не скрывала, откуда богатство. Даже смеялась, вспоминая, как находила припрятанное. Иногда возмущалась – искренне: – Её на расстрел ведут, а она колечко не отдаёт, говорит, обручальное. Пришлось с мёртвой снимать – руки в крови испачкала… Несколько раз госпожа Элиза привозила… зубы – золотые коронки. Она высыпала их горкой на столик, выкладывала цепочкой, создавала из них картинки – играла, словно мозаикой. Потом куда-то уносила и приносила обратно уже не зубы – маленькие брусочки золота. Гретхен боялась прикасаться к ним – в каждом брусочке были десятки жизней. Она чувствовала это. Мари по-прежнему называла Гретхен мамой. Когда они оставались один на один. Когда госпожа Элиза уезжала на войну. Когда кто-то был рядом, а госпожа Элиза возвращалась домой, Гретхен для всех была Гретхен. – Почему не ты родила меня? – спросила Мари, когда ей исполнилось пять. – Зачем? – не поняла Гретхен. – Я бы полностью была твоей, – призналась девочка. – Ты хорошая мама. Ты знаешь сказки. Госпожа Элиза сказок не знала, она знала только молитвы и речи фюрера – их она могла цитировать долго-долго. И иногда устраивала показательные читки – вечером, перед сном. Гретхен каждый вечер, перед сном рассказывала Мари всё, что помнила от своей мамы, иногда придумывая своё: – Жила-была маленькая девочка… – Её звали Мари! – встревала Мари. – Её звали Мари, – соглашалась Гретхен. – Она жила у мамы в животике! – Мари была наивна, но знала многое. – Мари жила у мамы в животике, – не спорила Гретхен. – Она не хотела рождаться, потому что её мама была очень злой! – заявляла Мари. – Мари родилась, – улыбалась Гретхен, – потому что она знала: она встретится… – С доброй феей! – хлопала в ладоши Мари. – А фея будет рассказывать Мари сказки, – Гретхен поправляла одеяло, которым укрывалась Мари, целовала девочку в лоб и ненадолго замолкала. – «Репку»! – требовала Мари. И Гретхен рассказывала «Репку». – «Колобок»! – просила Мари. И Гретхен рассказывала про колобка, убежавшего от деда с бабкой. – «Теремок»! – вспоминала Мари. И Гретхен… вспоминала «Теремок». К пяти годам Мари знала два языка: немецкий и русский. На русском она разговаривала с мамой Гретхен – в спальне, а с шести лет – ещё и в подвале. В подвале они прятались от бомб. Не от советских. И не от немецких. От американских и английских. Так говорил управляющий имением госпожи Элизы. И что уж находили американцы и англичане в этом маленьком немецком городке – никто не понимал. Военных предприятий – заводов, фабрик – в городке не имелось. Был только небольшой госпиталь для тяжелораненых немецких солдат. Гретхен знала об этом и от госпожи Элизы. – Странно! – пожимала плечами госпожа Элиза, когда в первый раз услышала о бомбардировках. – Бомбить наших тяжелораненых солдат – это кощунство! И совершенно не может быть, чтобы нас бомбили американцы! Англичане – может быть. Они мстят нам за свои поражения и за то, что мы бомбим их города. А что делать здесь американцам?! Ведь мы с ними торгуем много лет! Они до сих пор поставляют нам нефть, металл и много чего ещё. Конечно, они много чего продают ещё и русским, но, – пожимала плечами госпожа Элиза, – ведь это всего лишь бизнес. Американцы как всегда умело делают деньги… – После этого госпожа Элиза задумалась: – Неужели нас бомбят русские? Когда налетали чужие самолёты – ночами, когда начинали падать бомбы – свистеть и грохотать, – Гретхен хватала полусонную Мари на руки и со всех ног мчалась со второго этажа в подвал: ступеньки, ступеньки, поворот, ступеньки, поворот, дверь… С потолка что-то сыпалось – мелкое и колючее. Гретхен закрывала Мари собой, своим телом, крепко сжимала ладонями голову девочки. – Мама, сказку! – просила Мари. – Жил старик со своею старухой… – начинала Гретхен сказку Пушкина. …Госпожа Элиза приехала раньше обычного. – Мы проигрываем эту войну. Случайно, но… – вздыхала она. – Нужно позаботиться о будущем! Американцы не будут против, если кое-кто из нас поселится у них. Или в Канаде. В крайнем случае – Бразилии или Аргентине. Но это далеко. Очень далеко. Мари не выдержит первых испытаний. Я заберу её позднее, когда сама устроюсь на новом месте! – госпожа Элиза была категорична. На её прикроватном столике вместо фотографии мужа лежали какие-то папки со свастикой и словом «Секретно» и ещё документ, похожий на паспорт. В документе была фотокарточка госпожи Элизы, но подпись под фотографией уверяла, что госпожу Элизу зовут… Натали. – Так нужно! Когда началась очередная бомбёжка – ночью, Гретхен по привычке бросилась к Мари. И – поспешила в подвал. Обнявшись, они долго-долго пели – повторяли – не сказку, песню: – Во поле берёзка стояла, во поле кудрявая стояла… Утром они вернулись в дом – поднялись из подвала в комнаты, прошлись по ним, заглянули в кухню, в другие помещения, и Гретхен поняла: они остались одни. Госпожи Элизы нигде не было; папки и документ исчезли, сейф был открыт и пуст. Дома не оказалось ни управляющего, ни его помощника, ни повара, ни горничной – ни-ко-го. Впервые за много лет она вышла на улицу. Долго не решалась – боялась. Приоткрыла входную дверь, прислушалась к звукам, доносящимся из незнакомого мира, принюхалась к чужим, забытым запахам наступившей весны. Она боялась. Мари – нет. Мари распахнула дверь и выскочила во двор. Деревья, кустики, забор… За забором была мощёная камнем улица: мостовая, дома, заборчики. Людей практически не было – промелькнула вдали торопящаяся куда-то женщина в сером пальто или плаще, из дома – наискосок – показался старик с палкой и тот час же вернулся к себе, хлопнув дверью, и всё. Почти неделю они с Мари прожили вдвоём. Сделали запасы воды, пока работал водопровод – два дня. Собрали в одном месте все продукты, что нашлись в доме – распределили по чуть-чуть, прикинули: хватит на половину месяца. Три ночи их бомбили особенно сильно. На четвёртый самолёты налетели на городок среди бела дня. Убежать в подвал девочки не успели – сидели на кровати, тесно-тесно прижавшись друг к дружке. – Мамочка! – шептала пронзительно свистящим шёпотом Мари, вжимаясь в Гретхен. – Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя… – перебивая страшный шёпот и тяжёлые звуки взрывов, читала по памяти Гретхен. После бомбёжки они услышали раскаты далёкого грома. Оказалась, это была артиллерийская стрельба – стреляли пушки. Звуки их выстрелов приближались – почти с каждым часом. …Судьба ли их миловала, Бог ли – ни одна бомба, ни один снаряд не попали в их дом. Осколки бомб и снарядов – да; все окна лишились стёкол. Во дворе пострадали деревья, обвалился забор. А дом – уцелел. Их нашли в подвале. Чужие люди в чужой форме. Среди них были и темнокожие мужчины. Бряцая оружием, громко стуча каблуками крепких ботинок, чужаки вели себя как хозяева. Гретхен видела – из дома выносили, не стесняясь ни их, детей, ни себя, своих же солдат, и одежду, и постельное бельё, и посуду – всё, что можно было унести в руках, всё, что представляло какую-то ценность. Хрустело стекло – осколки, на полу. Хлопали двери – и не только от сквозняков. Их вывели на улицу, буквально впихнули в толпу местных. Толпа постепенно превратилась в очередь. Очередь медленно двигалась в направлении нескольких бронеавтомобилей, на которых были установлены пулемёты. Рядом с бронеавтомобилями стояло несколько человек – наверное, офицеров. Они проверяли документы. – У нас ничего нет, – развела руками Гретхен; говорила она по-немецки. – Как тебя зовут? – спросил её тоже по-немецки переводчик – и всё-таки американец. – Имя? – Гретхен, – отозвалась она. – Где живёшь? – задал второй вопрос переводчик, обращаясь только к ней. – Там! – Гретхен махнула рукой в сторону дома госпожи Элизы. – Сколько тебе лет? – третий вопрос американца поставил её в тупик. – Не знаю, – пожала плечами Гретхен – она действительно не знала свой возраст; постоянное сидение взаперти – сколько прошло времени с того дня, что она оказалась в Германии? – Контужена, – поставил диагноз переводчик. И посмотрел на Мари: – У тебя тоже нет документов? – Нет! – громко ответила Мари… по-русски. – Что?! – удивился переводчик, услышав чужой язык. – Как тебя зовут? – Мари я, – улыбнулась Мари. Она имела в виду, что её зовут Мари: Я – Мари. Переводчику послышалось другое: Мария – русское имя. – О-о-о! – протянул он, довольно осклабившись. – Машя-а. – Русский язык давался переводчику с трудом, но он знал и его – немного, но знал. – Девощка-а, сказай что ешо по-рюськи. – Пожалуйста! – легко согласилась Мари. И начала. Сказку: – Жил-был дед. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая… На улицу, ревя моторами, выскочили два автомобиля – один маленький, другой большой. В кузове грузовика сидели солдаты, в легковом – офицеры и один важный – может быть, и генерал. Автомобили остановились рядом с американской техникой. Американцы встрепенулись – выкрикивая что-то непонятное, стали сдвигать немцев – и Гретхен тоже – на тротуар, к забору. Переводчик поспешил к легковому автомобилю – что-то сказал там самому важному. Тот подошёл к Мари: – Ну-ка, ну-ка… Что ты тут рассказываешь? – Говорил он на чистом русском языке. – Давай-ка… «Наши!» – подумала Гретхен, и на глаза её навернулись слёзы. Женщина, стоящая рядом с Гретхен, в порыве участия схватила её за руку: – Не плачь! Не бойся! Нам повезло! Нашими хозяевами будут не русские – американцы. Они, может, и будут грабить, может, кого и изнасилуют, но не отправят в Сибирь, не убьют… – У Лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том… – вдохновенно рассказывала Мари советскому генералу. Ей аплодировали – и генерал, и офицеры, и солдаты: и наши, и американцы. Ей досталась плитка шоколада, другая, печенье, какая-то игрушка… – Ну, своих-то, надеюсь, нам можно без всяких там церемоний забрать? – обратился генерал к американцам. – Конечно-конечно! – усиленно закивал головой переводчик. – Йес, о-йес! – согласились американские офицеры. – Поедешь? – генерал широким жестом показал Мари на свой автомобиль. – Со мной. У меня здесь дочка. Тоже. Приехала навестить. Она чуть постарше. Тоже Пушкина любит… Мари уселась к генералу на колени, не выпуская из рук с небес свалившегося богатства: шоколада, печенья… Автомобили зарычали моторами и, оставив клубы дыма и запах бензина, вскоре растворившиеся в воздухе, исчезли из городка. Гретхен не успела ничего сказать, ничего сделать. К ней подошёл переводчик: – Ну что, тебя нужно отправить в госпиталь? Женщина-немка, говорившая до того про американцев, буквально вцепилась в Гретхен: – Нет, господин офицер, нет! Мы вылечим её сами! Позвольте, господин офицер! Разрешите, мы пойдём домой! Прямо сейчас! Господин офицер… Переводчик пожал плечами, обратился к своим – старшим, и те тоже пожали плечами. – Идите! – разрешил переводчик. Но тут же предупредил: – Из дома ни на шаг! Завтра патруль будет обходить все дома – проверять, чтобы все немцы были на месте. Понятно? – Да-да! – затрясла головой женщина. И потянула Гретхен за собой: – Домой! Пойдём домой! – Домой? – повторила Гретхен. – Да-да! – женщина ещё несколько раз качнула головой. – Какое счастье, мы остаёмся дома! Какое счастье!
Комментарии
Добавить комментарий:
|
|
СЕТЕВАЯ ВЕРСИЯ
/ АРХИВ НОМЕРОВ
/ АВТОРЫ
/ РУБРИКИ
/ ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ
/ О ЖУРНАЛЕ
/ КНИГИ
/ ПАРТНЁРЫ
/ АКТУАЛЬНО
/ КАРТА САЙТА
|