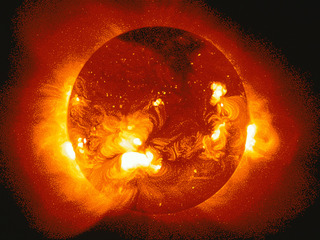 Солнце тем летом трудилось на славу. Юг погибал в обмороке жары, север трещал от пожаров, и всё российское пространство было спелёнато густым, синим маревом смога.
Солнце тем летом трудилось на славу. Юг погибал в обмороке жары, север трещал от пожаров, и всё российское пространство было спелёнато густым, синим маревом смога.
Кто работал, проклинал работу, кто отдыхал, клял такой отдых, кто воевал, костерил на чём свет войну.
По ночам люди просыпались в лужах пота и остервенело били на мокрых лбах комаров. Что и говорить – дрянь, а не лето.
Впрочем, кое-кто злорадно потирал ладони, мол, допрыгались. Вот он, начинается, конец света. То ли ещё будет!
Но предречённый конец так и не обрушился. К сентябрю повитое жухлой травой лето тихо спеклось в жаркой духовке зноя, подрумянилось и застыло в нежной бабьей поре. Правда, почва от лихорадочной людской деятельности то тут, то там трескалась, вздрагивала и лопалась, осыпая на свои плечи прах обжитых домов. Однако щедро обещанный прорицателями финал жизни так и не произошёл. Гиены лишь оскалили жёлтые зубы, но проглотить живую обитель не решились. Видно, у Господа были свои резоны.
Правители стали возвращаться из отпусков, из мест умеренных и благодатных. Почёсывались при виде предстоящих дел, раскачивались, вздыхали и грели память на экзотических островах. Солдаты поминали товарищей, а российский народ скрипел зубами, преодолевая очередные препятствия. Всё шло своим чередом. И не было, казалось, ничего нового под луной. Кроме любви. Лишь она-то, пожалуй, всегда чарующа, свежа и нова. Хотя те, кто по-настоящему любил, вряд ли размышляли об этом. Они просто любили, и всё.
По пятницам Вадим брился тщательнее обычного. Вере нравилось, чтобы лицо его в день их встреч было идеально выбрито, пахло французским одеколоном и душистым кремом. А раз так – Вадим мысленно готовился к этой процедуре чуть ли не за несколько дней. Но, честно говоря, она, эта процедура, особой радости ему не доставляла, как бывает у нормальных, целых парней.
Тогда, перед своим последним боем, Вадим тоже хорошо вымылся, чисто, будто на праздник, побрился и надушился ходовым армейским одеколоном «Саша». Это было вечером. После того, как они полдня бились за ту проклятую чеченскую деревню, а Костю Грекова потом никак не могли вытащить из-под чадящего сажей БТРа. Наконец, извлекли, и Костя спекшимися от крови губами спросил: «Пацаны, где моя рука?» И потерял сознание навеки.
Костю положили рядом с семью ребятами, найденными в разных местах того красивого села посреди малахитовых гор, упиравшихся в линялое от солнца, бесцветное небо.
Они равнодушно лежали под чужими, прозрачными облаками, имея чёрные от военной работы ногти. Солдаты всё ещё оставались молодыми, крепкими, только с одеревеневшими в смерти, пустыми лицами, по которым жадно сновали и заползали в приоткрытые рты вездесущие зелёные мухи.
К потерям близких людей, а близкими Вадим считал всех бойцов, с которыми воевал более трёх дней, он так и не мог привыкнуть.
Всякий раз, когда Вадим Чунихин (среди бывших друзей-курсантов – просто Чуня), когда капитан Чунихин вглядывался в лица только что погибших солдат, он поражался непостижимости того, что свершалось по воле рока. Одни выходили из кромешного ада целыми, накопившими лишь какую-то вселенскую усталость в глазах, другие гибли, не успев открыть рот от удивления недалёким, пушистым взрывом. Но все они, бывшие воины, с одинаковым, жутким спокойствием смотрели уже мимо жизни. Мимо тех, кого любили, и кто остался за далёким порогом, мимо командиров, друзей и просто знакомых.
Что говорить, по большому счёту, никому из приговорённых лежать трупами на чужой земле, она, эта земля с чужим языком, чужими жителями, чужими горами, была не нужна. Но эта земля родила чертополох ненависти и террора против России, и потому Чунихин и его товарищи были здесь, а война стала их тяжёлой работой.
И вот к вечеру, перед своим последним боем, Вадим хорошо вымылся, самолично расставил посты, хотел написать письмо Вере, зная, как ждёт она от него каждой весточки, но сил уже не было, и ум спёкся от жары и горя войны.
Чунихин едва добрался до лежанки – обыкновенного, одетого в грубую дерюгу, матраца. А ночью Вадима вынесло на улицу от звука осыпавшихся стёкол.
Он бежал среди мечущихся теней, пытаясь сообразить, где идёт основное сражение, на каком краю села.
Глухо шлёпали по бархатной пыли сапоги, и на мучнисто-белые, выхваченные из мрака лица бойцов брызгало светом вспышек.
Ночь рассекали пунктиры автоматных очередей.
Впереди бил пулемёт Димы Марчука, и Вадим бросился туда. Все знали свои места по боевому расчету, однако Чунихин на всякий случай криком горла напомнил солдатам об этом. Но приказное напоминание оборвалось на полуслове оттого, что Вадима резко и сильно, будто палкой, ударило осколками ниже колена и одновременно в центр груди, где жила его военная душа, всегда искавшая согласия долга, чести и совести.
Очнулся Чунихин в окопе, на краю села. Как он там очутился – не помнил. Видно, кто-то из солдат стащил его сюда от беды.
Солнце забралось уже высоко и мутным пятном било в глаза. Из-за края окопа тянуло чадом горевшей резины. Выстрелы стихли. Где находилось войско – было неведомо.
Вадим попытался подняться, но острая боль обожгла грудь и правую ногу. Кое-как всё же капитан Чунихин вскарабкался на бруствер, ощутив, что весь живот и сапог залиты кровью.
Вот тогда он и увидел тех двоих с автоматами. Они тоже приметили капитана. И пошли прямо к нему, поняв, скорее всего, что он не может больше воевать.
Один был в куртке на голое волосатое тело и защитных штанах. А второй, с перебинтованной грязным бинтом головой, лишь подался в сторону Вадима, но остался стоять, процедив сквозь зубы: «Убей собаку!»
Чунихин судорожно бросил руку в кобуру, но та оказалась пустой. Видно, Вадим выронил пистолет ночью, в момент взрыва. Другого оружия поблизости не было.
Чунихин вдруг ясно осознал: это его последние минуты. Осознал не умом, а чем-то горячим и тяжёлым внутри. Ему страшно захотелось помочиться. Он отвёл взгляд от идущего к нему человека, и перед его глазами возникла тонкая травинка, по которой мирно ползла божья коровка. Красная, с чёрными точками.
Тем же горячим и тяжёлым внутри себя капитан дополнительно понял, что вот сейчас его – Вадима Викторовича Чунихина не станет. И уже никогда больше не будет. А будет только беспечная божья коровка на тонкой зыбкой травинке. Красная, с чёрными точками. И будет много другого. Весь мир. Но уже без него, без капитана Чунихина.
Вадим не искал возможности защититься или как-то спастись: на это не было сил. Да и тот, кто шёл к нему, был уже в десяти шагах.
От слабости раненного тела капитан сполз на дно окопа и поднял глаза к создавшему его по образу и подобию Своему. Не для того, чтобы о чём-то просить – поздно, но для того, чтобы задать последний немой вопрос: «Зачем, Господи?»
Тот, подошедший к Вадиму, чужой человек остановился на бруствере с опущенным автоматом. На самом краю окопа. Лицо его было чёрным от щетины и грязи боя. Волосы курчаво росли на груди и животе воина. В глазах его не было ненависти. Были обида, усталость, отчуждение, брезгливость… Но ненависти не было. Возможно, в другое время они могли быть друзьями, сидеть за одним столом. Или вместе рыть колодец. Или строить дом. Дорогу. Мало ли что?.. Но жизнь распорядилась иначе. Теперь тот, подошедший, стоял напротив Вадима, опустив палец на курок автомата.
Они были врагами. Один – потому что не мог простить другому его незваный приход, его своеволие и великодержавность. Второй – потому что перед ним был тать, бандит, жестокий убийца мирных людей, а сейчас и его товарищей, но главное, разрушитель единого Отечества, которое требовалось беречь и защищать всегда, как встарь, так и теперь. Каждый имел свою правду.
– Стреляй, – сказал капитан. – Чего смотреть? Не в музее. Стреляй, – повторил Чунихин, скривившись от внезапной острой боли.
– Мне твоя жизнь не нужна, – хрипло молвил волосатый боец. – Но я возьму то, на чём ты сюда пришёл.
В следующую секунду сгусток света ударил капитану Чунихину в глаза, а лицо его с гимнастёркой рассыпчато забрызгало кровью и мелким костным крошевом размозжённых коленей.
Вадим очнулся уже в госпитале. Уже без обеих ног.
…Сидя в кресле с колесами, Вадим бережно взял со столика перед собой купленный матерью французский одеколон и надушил чисто выбритое лицо зарубежным ароматом… Сейчас весь он был готов для свидания. Через час, как всегда в последнее время, должна была прийти Вера.
Странной теперь стала их любовь. Она обрела какое-то новое, необычное и незнакомое ранее качество некоей больной обязанности, некоего со стороны Веры долга, что ли, чего прежде Вадим никогда не ощущал.
В прошлом, куда с некоторых пор Чунихин проникал лишь памятью, они любили друг друга так искренне, так самозабвенно, что, похоже, не было ни у одного из них и тени напряжённости, скрытности или отчуждения. Нынче Вадим догадывался и даже, скорее, знал, что Вера приходит к нему раз в неделю, по пятницам, словно на работу любви. Так… по старой памяти. И, вернее, просто из жалости. Но Вадим любил Веру как прежде, и отказаться от встреч с нею не мог, хоть и пытался сжечь их прошлое.
Она уже не бросалась, как некогда, захлебываясь от счастья к Вадиму на шею, не обмирала от его поцелуев, не срывала нетерпеливыми руками с него одежду и не шептала горячо: «Ты мой! Мой! Единственный! Любимый!» Всё это осталось где-то далеко. За стеной войны, ранений и горя. Всё это провисло в тёмных аллеях весенних московских парков и в чертогах небогатой, но уютной комнаты Веры на Остоженке. Туда уже не было входа, как не было входа во многое, чего лишаются увечные люди.
Теперь Вера приходила к Чунихину каждую пятницу пунктуально в шесть вечера, одаривала лёгким дружеским поцелуем и усаживалась напротив, чтобы поведать Вадиму о своей суетной жизни агента недвижимости. Говорила о жутких ценах, об алчности директоров фирм, плодящих бомжей, бродяг и пьяниц; зачем-то врала о том, как много ей приходится, не жалея себя, трудиться с утра до вечера, дабы заработать приличные деньги, чтобы можно было что-то отложить Вадиму на протезы. Говорила, что жизнь стала не жизнью, а выживанием, что народ сделался лют до остервенения и готов разорвать каждого, кто нечаянно наступит на ногу. И что всякий норовит объегорить, обокрасть, а по вечерам страшно ходить по улицам. Что муж толстеет. Что заболела дочка. Что порвались колготы и хорошо бы сделать модную причёску, что она устала и, по сути, совсем одна. Вера говорила много в жарком запале негодования от тусклой жизни и собственных проблем. А душа Вадима наливалась тугой болью оттого, что он – калека, получает жалкую пенсию, не в состоянии встать на ноги и вырвать любимую женщину из лап сытого мужа, который где-то что-то ворует и на том наживается. За это ли Чунихин воевал? Оттого ещё стонала душа, что у него вообще нет каких-либо видимых перспектив и лучше, может быть, им расстаться вовсе.
Переехать к Вадиму и стать его женой Вера отказалась. Больше к этой теме они не возвращались. Однако и порвать с Верой совсем Вадим не мог. Она была его любовью, единственным, пожалуй, человеком, ради которого он жил, хотя и рассчитывать особо, выходило, не на что. Не мог Чунихин в одночасье расстаться с тем, что составляло его прошлое, настоящее и будущее.
Навещали, конечно, друзья, однополчане и делали всё, чтобы Вадим не чувствовал себя столь одиноко. Чунихин раскрепощался, шутил, напускал на себя благодушный вид, но всё это, понятно, была лишь маска.
Итак, Вера приходила по пятницам.
Ирина Сергеевна, мать Вадима, деликатно вручала их друг другу, осторожно прикрывала за собой дверь и тихонько уходила в свою комнату, в обитель собственной тоски и печали.
В своей новой жизни после ранения, во мгле окружающего мира и собственной неподвижности Вадим учился заново относиться ко всему, что происходит. Теперь он словно не был самим собой, будто бы не имел на это права, а поднимался над тем изуродованным человеком в коляске, чтобы спокойно, запретив себе эмоции, внимать звукам, словам и мыслям. То была непростая наука новой выдержки и воли, ниспосланная ему взамен былой горячности, суетной торопливости и мгновенных решений.
Капитан, обладавший молодым, с правильными чертами, мужественным лицом, имел теперь на своем челе печать пожилой мудрости, ибо смерть вплотную прижалась к нему, сдавила горло ледяными лапами, но оставила жить. Жить в тягучем размышлении об устройстве мира, о самом себе, о содеянном, о Боге, об уготованной ему доле, об их с Верой любви и ещё о многом, из чего в настоящее время слагалось существование бывшего российского воина.
А Вера, ведя, в общем-то, беззаботную, лёгкую жизнь, утешала себя тем, что выполняет некую высокую миссию перед Богом, жалея пострадавшего солдата. Она успела в новом времени растерять любовь и истинное сострадание, чем, впрочем, не по своей воле захворали многие жители русских городов.
Вадим смотрел на Веру сквозь толщу обретённой на войне пустоты, видел любимый образ в оправе золотых волос, видел её всю: яблочно-шёлковое тело с двумя большими знакомыми родинками – одна на шее, другая на левой груди, повыше соска – и думал, что Господь всё-таки милостив, пожаловав ему хоть э т о.
Но всякий раз в глубине очертаний Веры так или иначе вспыхивала та проклятая чеченская деревня среди малахитовых гор, Ваня Гребнев под чадящим БТРом и другие ребята, уложенные на землю смотреть, не мигая, на ослепительное чужое солнце.
Тогда Чунихин переставал слышать, о чём повествовала Вера, ёрзал в кресле и морщился от беспощадного зрения, от которого в последнее время тупо щемило сердце.
Наговорившись, Вера помогала Вадиму взобраться на подушки рядом стоявшей кровати и, зная наперёд продолжение их свидания, сначала с ловкостью медсестры раздевала его, а затем раздевалась сама. Далее всё свершалось теперь в безмолвии, без сладко обжигающих, жарких слов признаний и любви. Со стороны Вадима они не имели смысла, так как провисали без ответа, и Чунихин ущемлёно перестал тратить на них голос и чувства. Вера же боялась пролить на Вадима жалость и фальшь. К тому же, понятно, у неё был другой мужчина, муж, и эта двойственность, о которой знал и Вадим, рвала её на части. Нужно было, конечно, поставить в их с Вадимом отношениях точку. Но как? Совесть, эта треклятая российская баба-совесть всё-таки жила внутри Веры и действовала, как некий строгий судия, и что делать с нею, с совестью, Вере было неведомо. Оставались лишь безутешные ночные рыдания, да несколько их общих с Вадимом счастливых фотографий. Но лучше бы их не было вовсе.
В тот вечер Вере было с Вадимом как-то особенно хорошо. Впрочем, хорошо было всегда. Но тот вечер стал необыкновенно упоительным. Вадим, словно прощался навеки, и отдавался Вере с такой страстью, с такой нежностью, что она неожиданно поняла: с тем, другим, несмотря на все его превосходящие плюсы целого, здорового, благополучного мужчины, счастья не произойдёт, а она, Вера, станет лишь томиться и мучиться горькими угрызениями. Память всегда и везде будет гоняться за нею с острою секирой. К тому же у того, другого, привлекательного красавца, в глазах были только механизмы, компьютеры, дорогие машины и больше, казалось Вере, ничего. Ничего!
– Я люблю тебя. И никогда не брошу, – тепло сказала Вера и вдруг сама поверила в это.
Вадим вздрогнул от неожиданных и уже позабытых слов. Вздрогнул от мягких искренних интонаций голоса, от прикосновения пальцев, сквозь которые протекла в него прежняя женская ласка Веры. Сердце обжигающе вспыхнуло внутри, где-то у горла, и затолкалось, задышало часто, безудержно. Но это радостное, юное ощущение от услышанного вскоре же и обуглилось. Лучше бы Вера не говорила то, что сказала. Вадим давно решил, что не станет собой отягощать Веру. Пусть всё идёт, как идёт, но в тот день, когда любимая женщина оставит его (это капитан не подвергал сомнению), он тоже уйдёт своей дорогой, несмотря даже на то, что Закон Божий запрещал э т о т уход.
И вот сейчас Вера выразила готовность быть с Вадимом всегда, скорее всего, как снова ему показалось, из элементарной жалости.
Ах, Вера!.. Нужен ли он ей такой?! Разве к этому готовит себя любая женщина?
«Любовь по пятницам», – подумал Вадим и усмехнулся.
– Что ты? – обрадовалась Вера улыбке близкого человека. – Хорошо тебе?
– Да, – сказал Чунихин. – Ещё не слишком поздно? Что если ты прогуляешь меня к Новодевичьим прудам?
– Ладно, – согласилась Вера. – Сегодня тепло, поэтому я просто накрою тебя пледом.
Они спустились в мягкий, ласковый вечер. Пруды были рядом, и Вадим хорошо помнил, как бегал тут ещё мальчишкой. Сейчас солнце сидело на макушках деревьев. Было тихо. В синей, спокойной воде озера горели золотые подсолнухи монастырских куполов. Вадим почувствовал себя братом росшего неподалеку сиреневого куста.
– Спой мне, – попросил капитан, когда они остановились под раскидистым вязом на берегу.
Вера негромко запела их старенькую школьно-походную песню о том, как пять ребят о любви поют чуть охрипшими голосами.
У Веры был приятный чистый тембр, отточенный ею в музыкальном училище. Но музыка так и не стала её профессией: зарплата учительницы была оскорбительно мала, поэтому пришлось искать другую работу.
Вскоре солнце зашло, и сразу стало прохладно. Песня кончилась. Вадиму сделалось грустно, потому что он вдыхал свежий озёрный воздух, видел зелёные очертания берегов, всё ещё сиявшие луковицы церковных куполов. Но не мог встать, пойти под своды Храма, поклониться иконам и сотворить священную молитву за всех любимых, живых и погибших. Ничего уже из той прежней, пронзительно счастливой жизни ему не предвещалось.
– Я завтра перееду к тебе, – сказала Вера, охваченная мечтательной эйфорией. – И буду твоей женой. Ты рад?
– Поцелуй меня, – попросил Вадим, и когда Вера нежно выполнила его просьбу, он прощально вздохнул. – Поехали. У меня зябнут ноги, которых нет.
И вот этот их прощальный поцелуй – так уж угодно было судьбе – видел человек, который по странной случайности оказался в ту минуту неподалёку. Этот человек, Сергей, был мужем Веры. По свойству поцелуя он понял, что связывает его жену и увечного инвалида.
Сергей не был, как полагал от ревности Чунихин, ни бандитом, ни мошенником, ни вором. Он был хорошо образован, талантлив и мог делать то, чего не могли другие. Потому был ценим и получал приличные деньги.
В тот вечер он встречался с коллегой, чтобы обсудить некоторые технические предложения. Для деловой встречи лучшего места, чем тихий монастырский парк, трудно было и придумать. Сергей с товарищем неспешно шёл по зелёной аллее, и вдруг…
Сергей сразу как-то подсознательно вспомнил, что Вера часто погружается в долгую задумчивость, что она бывает рассеянна до абсурда: может мыло положить в холодильник, а в сахарницу насыпать соль. Теперь ему всё стало ясно. Но он понял, что стал свидетелем не банальной измены. Что тут всё гораздо сильнее и глубже, и это осознание ударило ещё больнее, потому что оно пахло неотвратимостью финала его любви.
Они поужинали молча, стараясь не смотреть друг другу в глаза. Лишь за кофе Сергей закурил и чужим, глухим голосом спросил:
– Сколько могут стоить протезы?
Вера вскинула на него испуганные, удивлённые глаза и тут же уронила в рыданиях голову на стол.
Сергей вынес из своего кабинета пачку купюр и положил перед Верой.
– Я думаю, – сказал он, – этого хватит.
В тот вечер Сергей впервые в жизни попал в милицию. Он был вдрызг пьян. Крутыми русскими словами Серёжа всю ночь клял войну с её смертями, стенаниями, кровью, в прах разбитыми судьбами и приказывал дежурному немедленно позвонить в Кремль, потому что он, Сергей Крутилин, желает сделать заявление по поводу любых и всяческих военных действий. А милиция смеялась и, позёвывая, ходила мимо камеры. Туда-сюда. Ходила и посмеивалась.
Комментарии пока отсутствуют ...









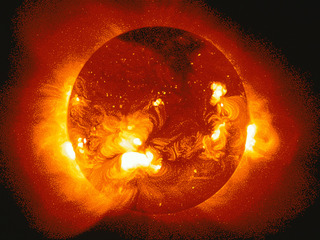 Солнце тем летом трудилось на славу. Юг погибал в обмороке жары, север трещал от пожаров, и всё российское пространство было спелёнато густым, синим маревом смога.
Солнце тем летом трудилось на славу. Юг погибал в обмороке жары, север трещал от пожаров, и всё российское пространство было спелёнато густым, синим маревом смога.